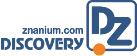Russian Federation
The article examines the historical and biographical context of Immanuel Kant's relations with his Russian contemporaries, emphasizes the effect of his philosophy's influence on them, as well as its significance for the entire subsequent self-reflection of Russian philosophical thought.
philosophy, history, Kant, Derzhavin, Karamzin
300-летний юбилей И. Канта (1724-1804) – событие для философского сообщества и всей российской науки, безусловно, знаковое, без преувеличения, знаменательное, и, по счастью, традиционное. Масштаб интеллектуального наследия выдающегося немецкого мыслителя и значение провозглашённых им моральных принципов сложно переоценить. Кант принадлежит мировой философии в той же мере, в какой специфика немецкой философской классики уникальна и преемственна общеевропейской культурной традиции. Современная российская философия в полной мере обязана И. Канту: его идеи стали неотъемлемой частью классического академического знания, а нравственные интенции во многом определили интеллектуально-гуманистический символизм творческой среды отечественной, в том числе, советской науки, критерии образования и культурный запрос российского общественного мировоззрения в целом.
В новое время, пожалуй, лишь Кант задал масштаб вопрошания: «Что есть человек?» – каковы границы и критерии его веры, знания и деяний, – заявил о праве человека на духовную автономность, утверждая, что подлинный разум неразрывно связан с нравственным действием, долженствованием совести и нашим мужеством воспользоваться ею. В этой связи весьма показательны слова И.В. Гёте, приведённые В.О. Лихтенштадтом: «Кант самый выдающийся, вне всякого сомнения. Именно его учение продолжало влиять и впоследствии, и глубже всего проникло в нашу немецкую культуру. Он повлиял и на вас, хотя вы и не читали его» [12, с. 464]. Заметим, что В.О. Лихтенштадт, активный деятель русского революционного движения, проходивший по делу о покушении на П.А. Столыпина, впоследствии член РКП (б) и участник Гражданской войны, был блестящим переводчиком Гёте и Бодлера. Оттолкнувшись от этого факта, постараемся обрисовать, насколько подчас феноменальна, говоря кантовскими терминами, апперцепция реальности историко-культурной канвы, как переплетены в ней судьбы выдающегося мыслителя и его современников, насколько взаимосвязаны личностные и исторические коллизии в истоках классической немецкой и отечественной философской традиций.
Впервые в «российском контексте» мы может упомянуть о Канте в середине ХVIII в., когда ходе Семилетней войны, после победы при Гросс-Егерсдорфе, русские войска 22 января 1758 г. вошли в Кёнигсберг. Молодой доктор Кант, вместе со всей профессурой Альбертины, присягнув на верность императрице Елизавете Петровне, на протяжении пяти лет, пока Восточная Пруссия принадлежала Российской империи, имел честь читать русским офицерам лекции в университете, проводить в их кругу частные занятия, прежде всего, по математике, что немало способствовало финансовому благополучию учёного. Антропология, мораль, логика, метафизика, естественное право, рациональное богословие, физическая география, наконец, пиротехника и фортификация – преподаваемые Кантом в разное время предметы, как отмечают исследователи были весьма разнообразны, поражали широтой и доскональностью изложения [4, с. 291-292]. В эти годы «элегантный магистр», как называли Канта, находится в центре русского общества, почти всегда занимает почётное место за обеденным столом, не без удовольствия посещает встречи русских дворян и офицеров, будучи неизменно щепетилен в нарядах и избирателен в знакомствах. Он носит пальто с золотой каймой и даже использует в качестве украшения церемониальный меч.
Оценка этого творческого периода мыслителя неоднозначна. Возможно, как и у любимого им с юности Монтеня, это было время его собственных «опытов». Выставив свою кандидатуру на профессорскую вакансию (о чём он собственноручно писал в письме на имя российской императрицы) Кант, вопреки протекции ректора университета, места не получил, весьма вероятно, по причине личного вмешательства представителя губернской канцелярии А.Т. Болотова, переводчика генерал-губернатора Восточной Пруссии В.И. Суворова, отца будущего генералиссимуса. «Принципиальный вопрос» по иронии был «философским». Он касался ревностного пристрастия молодого русского офицера идеям лейпцигского теолога Христиана-Августа Крузиуса, теоретическим оппонентом которого был сторонник Г. Лейбница и Х. Вольфа Кант.
Так или иначе, это первый повод для современной идеологической интерпретации в биографии Канта. Спустя четверть века со времен русского подданства, 16 декабря 1788 г., философ в частном разговоре в салоне графини Кайзерлинг якобы произносит сакраментальное: «русские – наши главные враги». В частности, А.М. Эткинд приводит такое воспоминание бургомистра Кёнигсберга Т.Г. Гиппеля: «Разговор зашёл о политике, и наши офицеры активно её обсуждали. Мы с Кантом заявили, что русские – наши главные враги… Графиня же придерживалась другого мнения… «Если бы мой муж был жив, он бы обязательно объяснил королю методом конкретной дедукции, что Россия – наш лучший союзник» [19, с. 283]. Однако А.М. Эткинд некорректно цитирует первоисточник: в биографии Канта, написанной М. Кюном: изложен совершенно иной контекст и сама фраза принадлежит не Канту, а непосредственно Гиппелю, который будучи бургомистром, в силу занимаемого общественного положения не мог произнести ничего иного, чем: «то был политический спор, в котором активно участвовали офицеры. Кант, как и я, тогда заявил, что русские были (во время Семилетней войны – А.С.) нашими главными врагами» [10, с. 407].
В действительности частные обстоятельства и личные аристократические знакомства, приватные договоренности и рекомендации играли в ХVIII в. для современников огромную роль и в повседневном обиходе российского и европейского дворянства имели, несомненно, определяющее значение. Итак, в 1770 г. Кант получает причитающееся место профессора логики и метафизики Кёнигсбергского университета, а в 1778 г. из Чернигова в Кёнигсберг по протекции полковника Запорожского казачьего войска П.С. Милорадовича на учёбу в Кёнигсберг прибыли кузены Григорий и Михаил Милорадовичи – в будущем, соответственно, губернатор российской Тавриды и герой Отечественной войны 1812 года [1]. Их сопровождал студент богословия Киевского университета И.Л. Данилевский, гувернёр графа Генриха Кайзерлинга, дипломата на русской службе, сына бывшего президента Петербургской академии наук и младшего родственника Гербарта Кайзерлинга, воспитателем детей которого в своё время был Кант. Дом Кайзерлингов был центром притяжения русского дворянства в Кёнигсберге, где братья Милорадовичи провели четыре года, и наиболее лестные отзывы профессора Канта были о Григории. Интересно, что в те же годы в Кёнигсбергском университете учился и сын придворного историографа М.М. Щербатова юный князь Дмитрий Щербатов. Однако за все время учёбы он так и не узнал о знаменитом профессоре Канте. Эту историю впоследствии любил рассказывать П.Я. Чаадаев, воспитывавшийся в семье своего деда, князя М.М. Щербатова, дабы подчеркнуть, насколько интересы тогдашней русской аристократии были далеки от философии. Впрочем, как увидим позднее, такое заявление верно лишь отчасти.
В 1786 и 1788 гг. Кант возглавляет Кёнигсбергский университет, и к этому времени относится событие, коррелирующее важнейшим тенденциям европейского и российского Просвещения и символически определяющее начало устойчивого интереса к творчеству Канта в российской общественной мысли и, собственно, во всей последующей традиции отечественной «кантианы». 18 июня 1789 г. знаменитому немецкому философу «пожелал изъявить почтение» [7, с. 20]. 23 летний русский путешественник, в будущем российский историк, Н.М. Карамзин, спешивший, напутствуемый своим старшим современником и единомышленником Н.И. Новиковым окунутся в атмосферу «интеллектуального гурманства» немецкой литературы и философии [16].
Этот визит в традициях «философские вояжей» ХVIII столетия – продолжение задано ещё путешественниками Ренессанса моды на просвещенность и утончённые беседы с выдающимися европейскими мыслителями-современниками, – подробно описан самим Н.М. Карамзиным и детально изложен в трудах и комментариях многих последующих исследователей: от Ю.М. Лотмана [13] до И. Эннелиса [18].
Аскетическая обстановка маленького домика на Принцессинштрассе, простота и целомудренность повседневного быта философа – «всё просто, кроме его метафизики!» – произвели яркое впечатление на Н.М. Карамзина, истолковавшего главную кантовскую аксиому на «русский манер»: «Говорю о нравственном законе: назовем его совестию, чувством добра и зла – но они есть!» – и, «представляя себе те случаи, где действовал сообразно с законом нравственным, начертанным у меня в сердце, радуюсь» [7, с. 21].
В свою очередь, Кант был польщён, что молодой русский оценил и достаточно понял его философию, что, как он полагал, не многим оказывалось под силу [20, с. 9]. В подарок Н.М Карамзин увёз «как священный памятник» написанную рукой мыслителя записку – рекомендацию к прочтению «Критики чистого разума» и «Основоположений к метафизике нравов». Впоследствии Н.М. Карамзин, скорее всего, всё же приобрёл эти сочинения для своей библиотеки, которая, к сожалению, сгорела в московском пожаре 1812 г. Так, в письме от 20 октября 1796 г. князю А.И. Вяземскому российский историк впервые обозначает свой философский интерес и акцентирует свой идеал: «скоро бедная Муза моя или пойдет совсем в отставку, или будет перекладывать в стихи Кантову метафизику с Платоновою республикою» [17, с. 108]. Косвенных свидетельств кантового влияния в эпистолярном наследии Н.М. Карамзина предостаточно. Так, в его системе ценностей «безусловный приоритет остаётся за человеком: «Пусть мир разрушится на своем основании, я с улыбкою паду под смертоносными громами, и улыбка моя скажет небу: «Ты благо и премудро, благо творение руки твоей, благо сердце человеческое, изящнейшее произведение любви божественной!» [6, с. 57]. С дугой стороны, и «политический идеализм Карамзина был философского свойства, он основывался на постулате практического разума Канта: «Ты должен, значит можешь!». Именно кантовское понимание свободы Н.М. Карамзин как государственник трансформирует применительно к России в «свободу нравственного выбора». Концепт «нравственная свобода» был чрезвычайно органичен в реалиях рубежа ХVIII-ХIХ вв.: современникам сентиментализма была вполне понятна сентенция о том, что «история не решит вопроса о нравственной свободе человека, но, предполагая оную в суждении своём о делах и характерах, изъясняет те и другие» [16, с. 3].
Обоснование того, что этический фундамент «практического разума» однозначно повлиял на Н.М. Карамзина как историка и государственника, находим в исследованиях И.Е. Рудковской и Р.Б. Казакова. По их мнению, для автора «Истории государства российского» становится важным не просто осмысление событий, хроник и летописей через призму выдающихся личностей, моральным качествам которых он придаёт первостепенное значение [15] – Н.М. Карамзин прямо переводит категорический императив Канта в плоскость апологетики монархической государственности: «они [государи] должны поступать так, чтобы правила их деяний могли быть общими законами» [5]. Более того, как государственник Н.М. Карамзин убеждён в абсолютности нравственного начала российского самодержавия, в основании которого он усматривал всю ту же безальтернативность кантовского морального императива: совесть и нравственную разумность Провидения – в сущности, патерналистский принцип монархической традиции.
Представленное Н.М. Карамзиным российскому читателю повествование Канта о своей философии было столь популярно, что распространялось даже в рукописных списках, [9, с. 84]. Между тем, сам философ 28 июля 1794 г. был избран в Петербургскую Академию наук, причем за фундаментальные географические труды. Напомним, что в 1802 г. будет издана его «Физическая география»: именно эту науку Кант полагал основанием истории народов. Растущий авторитет мыслителя для России в это время характеризует и курьёзный эпизод. Очередной русский «паломник к Канту», офицер В. Унгарн-Штернберг, посетив философа именно летом 1794 г., возвратившись в Петербург, пишет своеобразный панегирик «Послание к России» великим своим современникам: императрице Екатерине II, П.А. Румянцеву, П.А. Зубову, А.В. Суворову, и наконец, «досточтимому профессору» Канту, называя последнего «князем философов», «цезарем мудрецов», «великим человеком без титулов и орденов», чьё появление предвидел ещё Аристотель, а «матушка Екатерина» благоразумно осуществила все его философские предначертания в государственном устроении, предотвратив, в частности, ростки опасного вольнодумства и начавшийся в Париже ужас Термидора: «Ее законы определяют моральную свободу, она учит равенству прав; хижины и дворцы украшают одни и те же розы, все граждане пьют из одного кубка» [3, с. 200].
На рубеже 90-х годов ХVIII в. состоялся первый, и, собственно, единственный академический контакт именитого философа с подлинным представителем отечественной интеллектуальной элиты. Высокий отзыв Канта – «драгоценный подарок», «превосходная работа!» – получает сочинение российского посланника на Сардинии князя А.М. Белосельского-Белозерского «Дианиология или философская схема интеллекта», опубликованное в 1789 г. на французском языке в Дрездене. «Редко снисходивший до переписки кем-либо», «кёнигсбергский затворник», «находит время составить серьёзное концептуальное послание князю» [2, с. 76], оригинально представившему потенциалы умственных возможностей человека и сферы-пространства интеллекта: вам «суждено было разработать то, над чем я трудился в течение ряда лет, – заявлял Кант, – метафизическое определение границ познавательных способностей… человеческого разума…» [3, с 109].
Так или иначе, «кантианский дух», безусловно, присутствовал в российском обществе, в частности, вдохновляя молодёжь Новиковского кружка и «Типографической компании», являя своего рода атмосферу немецкого романтизма, ярким образчиком которого представали, к примеру, опекаемый в старости Н.И. Новиковым друг Гёте поэт Я. Ленц, слушавший в молодости лекции Канта по логике и метафизике [8] или профессор И. Шаден, читавший в Московском университете курс лекций по нравственной философии и имевший по воспоминаниям Н.М. Карамзина и Д.И. Фонвизина огромное интеллектуальное влияние на молодежь.
В российскую академическую среду идеи Канта проникали постепенно, либо с распространением его сочинений на немецком и других языках, либо в лице последователей-рационалистов, апологетов «категорического императива», занимавшихся истолкованием довольно сложной терминологии мыслителя, причем важнейшим фактором «кантианы» с этого времени становится именно преподавательский процесс. Так, заметную роль в пропаганде кантовских теорий в стенах Московского университета сыграл приглашенный из Геттингена на курсы греческого и латинского языков один из лучших учеников Канта профессор И. Мельман. Однако в 1795 г. этот «Цицерон в латинской словесности» и любимец студенчества был обвинен в вольнодумстве и выслан из России после скандальной беседы с митрополитом Платоном, когда он в присутствии куратора Московского университета М.М. Хераскова принялся страстно отстаивать рационально-критическое, на кантианский манер, толкование слова Божьего.
Предметное знакомство российской общественности с философией Канта происходит в самом начале ХIХ в.: первый, ещё прижизненный перевод на русский язык труда мыслителя, «Метафизика нравов», был сделан в 1803 г. преподавателем Николаевского штурманского училища Я. Рубаном и издан им как «Кантово основание метафизики нравов» [14, с. 786]. Выходу в свет этого труда предшествовало появление ряда не менее важных переводов и изданий, способствующих тому, что имя Канта начало приобретать широкую известность. В 1801 г. подробное изложение основных идей «Критики чистого разума» было осуществлено профессором Геттингена Ш. де Виллером. Его, вышедшая во Франции, «Философия Канта, или Основные принципы трансцендентальной философии» парадоксально нашла читательский отклик именно в России, став отправной точкой собственно отечественных интерпретаций и философских споров, оценок и критики, публицистической полемики и печатных суждений о Канте. Так, в 1802 г. в «Вестнике Европы» появилась анонимная заметка «Кантова философия во Франции», посвящённая бурным спорам «парижских метафизиков» в процессе рецепции кантовского трансцендентального идеализма, и наконец, в 1804 г., в официальном издании Министерства внутренних дел, «Санкт-Петербургском журнале», был опубликован первый русский перевод фрагмента книги де Виллера «Еммануил Кант. Сочинение Карла Виллерса», которому предшествовало сообщение о недавней смерти мыслителя, где подчёркивались его заслуги перед человечеством. Наконец, знаковым событием для российского читателя стало появление в 1807 г. первой части «Кантовой философии» – очередной перевод сочинения де Виллара, сделанный неким Петром Петровым. Здесь для нас важна не столько личность переводчика, сколько тот факт, что экземпляры оригинала и переводов де Виллара были предоставлены им известной светской благотворительнице, княгине В.А. Шаховской и в итоге попали в руки её близкого знакомого, действительного тайного советника Г.Р. Державина.
Вследствие этого, как полагает, к примеру, Д.В. Ларкович [11], можно утверждать о непосредственном и глубоком влиянии идей Канта, прежде всего, его моральных концепций на Державина-мыслителя. По мнению исследователя, кантовский тезис о «вещи-в-себе» как эквивалента долженствующей истины и «нравственного закона», а, по сути, Божественного уложения, прослеживается в целом ряде стихотворений позднего Г.Р. Державина. Этика и даже мистика кантовой моральной истины как высшего смысла бытия, становится ведущим лейтмотивом поэта, на исходе жизни всё больше размышлявшего о бессмертии, погружавшегося в православную эсхатологию, обращавшегося к истории церкви, обсуждавшего эти проблемы с митрополитом Евгением (Болховитиновым), с которым был дружен в годы его новгородского епископства.
Именно в фигуре Г.Р. Державина как поэта-философа, возможно, сокрыт неразгаданный исток подлинного кантианства на «русской почве»: мы вдруг понимаем, что Кант не рассудочно-аналитичен, а поэтичен. Хотя здесь прослеживается вектор будущей российской философской мысли в отношении Канта, у Г.Р. Державина более чем очевидна попытка нерассудочного постижения первоначального «нераздельного единства» веры и знания Бога, предвечный залог «нравственного императива» как шага к Нему всем своим существом.
Неоспоримо, Кант оказал самое непосредственное, фундаментальное и многоплановое влияние на всё последующее развитие отечественной философии, её приоритетно нравственные основания. «Всматриваясь в Канта», целая плеяда выдающихся русских мыслителей формировала свои воззрения в интеллектуальной оппозиции, в непримиримой критике его взглядов или невольно делаясь его эпигоном или апологетом. В итоге, «принципиальный онтологизм» С.Л. Франка и «путь к очевидности» И.А. Ильина проистекают от понятия ноумена: существо кантианской философии религиозно.
У Канта нет границ разума в смысле пределов мысли, но есть иное его состояние – бытие сознания, и самое близкое постижение этого – категорический императив и вера. Кант определил «вещь-в-себе» как близкую именно православному христианскому сознанию реальность Бога «за границами» разума. Непостижимость «вещи-в-себе» не делает её нереальной, знание доводится до максимума и умолкает, разворачиваясь за свои пределы – в реальность непостижимого истинного, бытие «всеединства», столь любимого русской философией. В этом тезисе обоснование для переоценки значения идей Канта в отечественной философской традиции, для пересмотра всего сложившегося дискурса о несовместимости трансцендентального идеализма и русской религиозной мысли
1. Andreev A.Yu. Russkie studenty v nemeckih universitetah XVIII pervoy poloviny XIX veka. – M., 2005.– 432 s.
2. Gromov M.N. Vliyanie Kanta na russkuyu mysl' // Kantovskiy sbornik. – 2009. – № 2 (30). – S. 74-83.
3. Gulyga A.V. Kant. – M.: Molodaya gvardiya, 2005. – 278 s.
4. Gusev D.A., Ryabov P.V. Znamenitye filosofy. – M.: ARHE, 2016. – 462 s.
5. Kazakov R.B. Kategoricheskiy imperativ Immanuila Kanta v «Istorii gosudarstva Rossiyskogo» N.M. Karamzina? // Vseobschaya istoriya i istoricheskaya nauka v XX – nachale XXI veka: v 2 t. / sost. i otv. red.: G.P. Myagkov, E.A. Chiglincev. – Kazan': Izdatel'stvo Kazanskogo universiteta, 2020. – S. 173-177.
6. Karamzin N.M. Izbrannye sochineniya: v 2-h tomah. – T. 2. – Stihotvoreniya. Kritika. Publicistika. – M, L: Hudozhestvennaya literatura , 1964. – 591 s.
7. Karamzin N.M. Pis'ma russkogo puteshestvennika / Red.: Yu.M. Lotman, N.A. Marchenko, B.A. Uspenskiy. – L.: Nauka, 1984. – 718 s.
8. Kaufman L.S. Rossiya v sud'be Ya.M.R. Lenca // Vestnik Tambovskogo universiteta. Gumanitarnye nauki. – 2001. – № 4. – S. 84-88.
9. Kruglov A.N. Filosofiya Kanta v Rossii v konce XVIII – pervoy polovine XIX vekov. – M.: «Kanon+» ROOI «Reabilitaciya», 2009. – 568 s.
10. Kyun M. Kant: Biografiya. – M.: RANHIGS, 2020. – 608 s.
11. Larkovich D.V. I. Kant – Sh. de Viller – Derzhavin: k voprosu o filosofskih interesah russkogo poeta / STEPHANOS . – 2017. – № 1 (21). – S. 181-190.
12. Lihtenshtadt V.O. Gete. Bor'ba za racionalisticheskoe mirovozzrenie. – SPb., 1920. –500 s.
13. Lotman Yu.M. Sotvorenie Karamzina. – M.: Molodaya gvardiya, 1998. – 382 s.
14. Pustarnakov V.F. Universitetskaya filosofiya v Rossii. Idei. Personalii. Osnovnye centry. – SPb., 2003. – 918 s.
15. Rudkovskaya I.E. Idei I. Kanta v istoricheskom tvorchestve N.M. Karamzina // Istoricheskaya nauka na rubezhe vekov: Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii. – T. 1. – Tomsk: Izdatel'stvo Tomskogo universiteta, 1999. – S. 74-76.
16. Scherbatova I.F. Vybor N.M. Karamzina: ot masonskoy antropologii i evropeyskogo gumanizma k providencializmu i nravstvennoy svobode // VOX. Elektronnyy filosofskiy zhurnal. – 2017. – Vyp. 23. – [Elektronnyy resurs]. URL: https://vox-journal.org/html/issues/408/410 (Data obrascheniya 05.04.2023).
17. Eydel'man N.Ya. Posledniy letopisec. – M.: Vagrius, 2004. – 254 s.
18. Enellis I. Beseda Nikolaya Mihaylovicha Karamzina s Immanuilom Kantom. Populyarnoe izlozhenie Immanuilom Kantom «Kritiki prakticheskogo razuma» // Kantovskiy sbornik: Nauchnyy zhurnal. – 2008. – № 1 (27). – S. 109-119.
19. Etkind A. Vnutrennyaya kolonizaciya. Imperskiy opyt Rossii. – M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2022. – 448 s.
20. Panofsky G. Karamzin, Kant, and Lavater – intersecting biographies // Slovo. Ru: Baltiyskiy akcent. – 2016. – № 4. – S. 7-16.